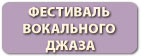ЮРИЙ ЧУГУНОВ
САКСОФОН
И вот я держу, наконец, в руках эту заветную мечту моего детства. Он действительно золотого цвета, непривычно тяжелый, после маленького пастушьего гобоя, приятно холодящий пальцы, новенький, фирменный.
Нет, я не буду говорить, что я был разочарован, когда приставил к губам мундштук и довольно легко извлек первый звук, и так же легко сыграл гамму, простую джазовую тему… Корде не обманула тогда — аппликатура саксофона оказалась почти один к одному с гобойной. Но все же я был подготовлен к этой встрече общением с гобоем и кларнетом. Пожалуй, тогда — несколько лет назад, впервые взяв в руки гобой, я был более взволнован, чем сейчас.
И, тем не менее, это было восхитительное чувство — вживаться в новые ощущения губ прикосновением к широкой трости с мундштуком, пальцев — к крупным перламутровым клапанам, которых не было ни на гобое, ни на кларнете; шеи — к приятной, долгожданной тяжести инструмента (он цеплялся за шлею).
Саксофон-альт принес в училище мой однокурсник и тогдашний дружок, Коля Лавров — высокий, красивый парень с мягкими манерами (вскоре он бросит училище и женится на генеральской дочке). Это именно с ним мы лихо выпивали по стакану водки, не морщась, под пахучие купаты.
Приобщение к саксофону стало реальностью. Я понял, что смогу прилично играть на нем, стоит позаниматься немного. И это подтолкнуло меня к действию. Случай скоро представился. Кто-то направил в самодеятельный ансамбль ГУМа, где, якобы, можно влиться в состав и взять саксофон.
И вот — маленькая комнатка, выходящая на галерею третьего этажа третьей линии. Внизу, под нами, шевелится темная толпа покупателей, а мы репетируем. В руках у меня саксофон-альт с громким именем “Амати”. Это уже моя, хоть и временная, но собственность. Я беру его домой и начинаю усиленно заниматься — гоняю гобойные этюды (насколько проще их играть на саксофоне!) и все, что попадает под руку. Выучиваю и несколько стандартных “бибоповских” фраз, подслушанных у Паркера.
До чего же въедливы они оказались! Третий десяток лет нахожу их следы почти у всех джазовых музыкантов всего мира и у себя, разумеется, тоже. Гениальная простота этих прерывистых выдохов, рельефно очерчивающих гармонию, приведенную к такой же простой и логичной схеме; взрывная сила этих пассажей, стремящихся вырваться за пределы аккорда, но всегда неминуемо возвращающихся к нему, эти паузы-вздохи, — будто извилистой, непредсказуемой, асимметричной линией прочерчен бег спасающегося от погони человека…
Так вот из чего состоит джазовая импровизация, вот почему так непринужденно и легко льется она из под пальцев джазовых мастеров! Она имеет свои железные джазовые законы, свой строительный материал — камни-заготовки, которые у джазменов всегда под рукой! Да, нелегко было пришедшим на смену Паркеру — крепкими сетями он их опутал.
А через некоторое время оказалось, что здесь же — в кладовке гумовского музыкального кружка, лежит и саксофон-баритон, и тоже “Амати”. Мог ли я устоять перед таким соблазном? Ведь Джерри Маллиган давно уже держит первенство в ряду моих джазовых кумиров! Баритон я заполучил. Он ощутимо тянул к земле мое хилое тело, но я усиленно занимался, хотя после занятий болела шея и спина. Едва приручил змееподобное чудовище (если альт напоминал птицу, то баритон — удава), голова заработала в направлении создания ансамбля. И я стал рьяно искать единомышленников.
Я окунулся в водоворот московской джазовой жизни. 60-й год. Джаз уже высунул голову, вылез из подполья, отряхиваясь, разминая мышцы. Возрождение началось три года назад, когда Москва распахнула двери молодежи всего мира, собрав на “Всемирный фестиваль молодежи и студентов”. Безумствовали московские девушки, бросаясь на каждого иностранца, как голодные волчицы.
Но главное было в том, что повсеместно зазвучал джаз. Шлюзы медленно, со скрипом начали открываться. Сначала щелочка, вот она все шире и шире, и хлынул бурлящий, мощный поток: джаз-клубы, фестивали джаза, джаз-ансамбли в ресторанах и кафе, на танцплощадках, на студенческих вечерах, на эстраде… Захватил и меня этот поток, пока мутный, все время закручивающий куда-то в сторону, но уже неостановимый.
До сих пор стоят в памяти почти ежедневные походы на “биржу” — так именовалось в среде джазовых (и прочих) музыкантов место, где они собирались в надежде найти случайную работу на вечер -“халтуру”.
Этих мест было последовательно три; они перекочевывали вслед за переселениями организации “Москонцерт”. Самыми уютными были: Неглинная улица – между рестораном «Арарат» (снесенным вскоре) и театральным училищем и Третьяковский проезд — короткий проулок, напоминающий двор-колодец, между Никольской (тогда – улица 25-летия Октября) и Охотным рядом (тогда – Проспект Маркса). Со стороны Охотного ряда проулочек отмечался башней-воротами Китайгородской стены. Гудящий муравейник “биржи” привлекал внимание прохожих: они останавливались и спрашивали, что это за сборище. Неуютным была Каланчевская улица близ трех вокзалов. Москонцерт расположился здесь в бывших «номерах» («публичный дом»). Собираться там не любили. Зато небольшой замкнутый дворик Третьяковского проезда всегда гудел, как улей. Халтуры был довольно редки, оплачивались от 5-ти до 10-ти рублей за вечер на человека. Сколачивались здесь же, на бирже, случайные составы и … вперед!
С каким только невообразимым аккомпанементом не приходилось играть на этих вечерах! Что за дикие звуки изрыгал за спиной какой-нибудь доморощенный музыкальный мастодонт-аккордеонист! Контрабасисты использовали свой бедный контрабас, в основном, как гудящий на неопределенной высоте ритмический инструмент — ползали по грифу снизу вверх и обратно (пожалуй, мой бидон-контрабас справился бы с задачей с большим успехом). Иногда я думал, что нас неминуемо побьют. Но публика наша была снисходительна, ее ничто не могло смутить. И тот же, терзающий сзади мои уши нахал-аккордеонист, вдруг оказывался ее любимцем, беря на себя роль массовика-затейника — сыпал чудовищными (с моей точки зрения, конечно) шуточками и даже пел. И, разумеется, по окончании вечера именно его ждала у выхода самая симпатичная девушка из публики, и он, взвалив на плечи свой гнусный аккордеон и обхватив девушку за талию, растворялся во тьме.
Но иногда случались праздники. Подбирался ансамбль из хороших музыкантов, и как будто теплая волна несла вперед, ласково покачивая. Тут уж приходилось быть начеку и выдавать все, на что способен. Часто шли и на чужие халтуры послушать тогдашних джазовых знаменитостей: Зубова, Гараняна, Рычкова, Бахолдина, Журавского, Козлова…
В какие только дыры не забрасывала нас погоня за жалкими десятками и пятерками! Всплывают в памяти какие-то завьюженные поля, куда выбросит на снег заморозивший до отчаяния автобус. Он отправится назад — в город, а нам придется ползти через это бесконечное поле в неведомый клуб, под своды маленькой, изувеченной, приспособленной под нечистые, бессмысленные сборища церквушки. Но праздники, повторяю, были — в светлых залах московских институтов, с роялем, а то, глядишь, и с микрофоном (крайне редко) и даже со вступительным словом энтузиаста-теоретика о джазе.
И вот, наконец, дожила и Москва до того момента, когда открылся в ней впервые джаз-клуб. За дело принялся энергичный и преданный джазу человек — Алексей Баташев. Он добился помещения (ДК энергетиков на Раушской набережной), наладил работу: репетиции, лекции-концерты, встречи с композиторами, сочувствующими джазу (Эшпай, Саульский), “джем-сешнс” с иногородними и зарубежными музыкантами…
Я входил в это помещение, как верующий в храм. Благодаря джаз-клубу я сблизился со многими интересными людьми, среди которых были весьма примечательные личности. Я имею в виду, прежде всего, Алексея Козлова и Германа Лукьянова. Сегодня это одни из ведущих джазовых музыкантов страны — композиторы, руководители известных ансамблей.
С Козловым мы сдружились на почве музыки Джерри Маллигана, перед которым он тогда преклонялся, так же, как и я. В то время он учился в архитектурном институте и собрал под его крышей джаз-ансамбль с несколькими духовыми. Некоторое время я ходил к нему — играл на баритоне (довольно редкий тогда инструмент). Первые профессиональные секреты, связанные с саксофоном, были поведаны мне именно им: проблема дыхания, постановки амбушюра, гармонических схем джазовых “стандартов”, импровизации и т.д. Мы оказались соседями — он жил тогда в Тихвинском переулке.
Мне нравились его мелодичные композиции с подробной и изысканной гармонизацией. Собственные джазовые композиции — это было редкостью в ту пору. По-моему, он не изменил своему мелодическому стилю до сих пор. Во всяком случае, я, как мне кажется, всегда определю его “почерк”, в какие бы современные одежды он ни рядился.
Отчасти под влиянием Козлова стал и я мучительно искать воплощения своей давней мечты — стать композитором. Теперь уже джазовым. Леша был несколькими годами старше меня, и многие неведомые мне стороны жизни, начиная от одежды и кончая литературой, были открыты мне с его помощью. А позже, 66-м году, мы оказались с ним в одном коллективе под крылом Юрия Саульского, собравшего тогда первый в своем роде (у нас) вокально-инструментальный оркестр — ВИО-66, к сожалению, недолго просуществовавший.
Второй человек, оказавший на меня влияние в те годы (и не только на меня, уверен) — Герман Лукьянов. Герман перебрался тогда из Ленинграда в Москву, и сразу же выдвинулся на положение восходящей джазовой звезды в среде московских джазменов. Он был заметен. И не только оригинальностью своей музыки – композициями, стилем игры, но и чисто внешними проявлениями.
Дом его, в переулке близ Остоженки, был местом общения московских джазовых музыкантов; своеобразный, то ли мини-джаз-клуб, то ли джазовая школа. Для встреч был выделен определенный день недели, и приходили молодые музыканты – играли, слушали, спорили. Разумеется, Герман являлся как бы руководителем этих сборищ. У него даже прозвище появилось — «учитель».
Кроме музыкального руководства, Герман претендовал также и на роль «гуру» в житейских вопросах. Он проповедывал тогда сыроедение и вегетарианство. Некоторые попадали под его влияние и распростроняли его учение среди друзей. Они ходили с запасами орехов, зерен, морковки, и демонстративно грызли свою «лукьяновскую пайку» на глазах иронически настроенных знакомых. «Неверные» спрашивали у «учителя»: «Как же не есть мяса — ведь человечество тысячи, миллионы лет ест мясо?» «Какой-то миллион лет в эволюции человечества – пустяк. Если и есть мясо, то сырое. А разве у тебя есть клыки, чтобы хватать добычу?», — парировал великолепный Герман.
Он говорил, да и сегодня говорит только то, что думает, не взирая на личности. И, тем не менее, молодежь тянулась к нему. С его легкой руки я перешел впоследствии на тенор.
— На чем ты играешь, это же водопроводная труба (о баритоне)! У него ограниченные возможности. Бери тенор — возьму в свой состав.
Он постоянно собирал составы. Тогда я не послушался его, позже все-таки перешел, но так и не смог приручить тенор до конца, хотя играл до последнего времени именно на нем.
С его именем связаны многие шуточки, которыми пользовалась “биржа”. Так, всех красивых девушек он называл “Колтрэйнами”, а девушек похуже — “Бенвебстерами” (Колтрэйн — великий саксофонист, Бен Вебстер — хороший, но старомодный). Обычный словесный фон биржы:
— Смотри — “Колтрэйн” идет!
— Да ну, — “Бенвебстер”.
Однажды на очередном заседании джаз-клуба вышел крупный разговор, связанный с его именем. Кажется, вопрос ставился так: Лукьянову нужно на время уйти в “подполье” и не возникать, а то он своей правдой-маткой в глаза отпугивает и раздражает всех, пока еще сочувствующих делу нашего московского джаза официальных лиц из Райкома. На что Герман, встав в позу главного обвинителя в суде, вскочил и закричал своим высоким голосом:
— А я вам на это, как Ломоносов, отвечу: Джаз-клуб можно отделить от Лукьянова; Лукьянова от Джаз-клуба — никогда!
Вопрос был закрыт. Таков Герман Лукьянов. Наверное, на свете было бы скучно жить без таких людей, а в джазе они просто необходимы.
Мне-таки удалось организовать тогда вожделенный ансамбль. Причем, опять пошел я по пути наибольшего сопротивления — собрал секстет: труба, тромбон, саксофон-альт, саксофон-баритон (я), ударные, контрабас. То есть безфортепианный секстет по образцу маллигановского. Вместо того, чтобы совершенствоваться в импровизации в окружении надежной ритм-группы, где и аранжировки-то писать не надо — наметил канву и играй — создал я довольно громоздкий организм, требующий настоящих, подробных партитур; другими словами — требующий постоянной писанины.
Отнюдь не случайно привлек меня именно такой тип ансамбля: сказалась тяга к аранжировке, к композиции.
Я увлеченно инструментовал “эвергрины”, “снимал” с магнитофона композиции из репертуара Джерри Маллигана, а в один прекрасный день вдруг нащупал тему, от которой комочек радостного предчувствия шевельнулся внутри. Наверное, так будущая мать прислушивается к движениям плода во чреве. Я понял, что это рождается моя первая настоящая джазовая тема. И хотя я записал еще только несколько тактов, был уверен, что тема состоится. В дальнейшем такая уверенность возникала всегда, как только нащупывалось “зерно” — основная мысль темы. В композиторство я пришел все-таки через джаз.
Саксофону же я не изменил до последнего времени. Он и сегодня активно вмешивается в мое творчество. Я написал Концерт для саксофона-тенора с оркестром, две сюиты для саксофона-альта, квартет саксофонов, много пьес и этюдов.
Эту главу я легкомысленно использовал в моей первой опубликованной книге «Семь кругов джаза». Я не стал изымать ее из этих мемуаров, так как изначально она принадлежала именно им. А поскольку «Семь кругов джаза» издана тиражом всего в 1000 экземпляров, я не опасаюсь, что, наткнувшись на эту главу в данной повести, кто-нибудь поставит мне в упрек мое легкомыслие. Имею право, в конце концов.
И на этом я прекращаю свои комментарии, потому что последняя глава «Прощание с училищем», как мне кажется, удалась, и добавить мне к ней нечего. Только то, что Скрябина я боготворю до сих пор.